Добро пожаловать
О книге:
В данной книге представлена история Марийского народа. Здесь рассмотрено происхождение, особенности языка, обычаи и нравы. Все факты подкреплены источниками и ссылками на них.
Приятного прочтения
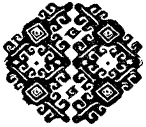 ВОПРОСЫ
ЭТНОГЕНЕЗА
МАРИЙСКОГО
НАРОДА. ОБ ИСТОКАХ
ФИННО-ПЕРМСКОГО
ЭТНОГЕНЕЗА
ВОПРОСЫ
ЭТНОГЕНЕЗА
МАРИЙСКОГО
НАРОДА. ОБ ИСТОКАХ
ФИННО-ПЕРМСКОГО
ЭТНОГЕНЕЗА
тыс. до и. э. занимала оба берега Волги от устьев рек Цивиля и Кокшаги до впадения р. Утки. Они имеются вдоль всего нижнего течения Камы и на Вятке. Среди этих памятников наиболее изучены такие поселения, как Кокшайское, Криушинское, Займищен-ское, Старо-Победиловское, Белымское, Карташихин-ское, Атабаевское I и пр. Любопытно, что приказанские поселения явно располагались отдельными родо-племен-ными группами, на расстоянии одна от другой в 10—12 км, в местах, наиболее удобных и для сельского хозяйства и для промысла.
Относительно генезиса этой культуры исследователи уже не сомневаются в чисто местном ее происхождении на основе поздненеолитических (волосовских) традиций, хотя и не без суперстратного влияния со стороны племен срубной культуры. На всем протяжении своего существования приказанская культура сохраняла специфические черты, отличавшие ее от окружающих этнокультурных образований. Так, например, приказан-скую керамику — первоначально плоскодонную, затем круглодонную с характерным налепным «воротничком» по краю, венчика и орнаментом из однорядных ямочных и клиновидных оттисков в сочетании с различными геометрическими узорами — невозможно спутать с абашев-ской, чирковско-сейминской, срубной и даже соседней турбинской (средневерхнекамской) посудой39. Надо полагать, что носители приказанской культуры составили этнический костяк восточнофинской (пермско-марий-ской) группировки племен накануне вступления Восточной Европы в эпоху раннего железа.
Примерно с середины II тыс. и до начала I тыс. до н. э. развивалась во многом отличная от приказанской поздняковская культура, получившая распространение в бассейне Средней и Нижней Оки и по Волге до р. Сундырь. В прежней археологической литературе поддерживался взгляд на поздняковскую культуру как на северный вариант срубной культуры или смешанный волосовско-рязанско-срубный комплекс. С этим решительно не согласен П. Н. Третьяков, считающий поздняковскую культуру в основе своей автохтонной и генетически подстилающей культуру древней мордвы.
![]()
![]() В числе прочих
аргументов он ссылается на хорошо известный факт возникновения уже в рамках
поздняков-ской культуры «текстильной» керамики, столь характерной для
позднейших дьяковско-городецких памятников Болго-Окского междуречья, Верхнего
Поволжья и даже части Прибалтики. Нельзя не согласиться со следующими его
словами: текстильный узор в качестве господствующего на керамике
«оставался на территории волго-окских и прибалтийских финно-угорских племен
в течение более тысячелетия, вплоть до первых веков н. э., являясь,
таким образом, устойчивым этнокультурным признаком».
В числе прочих
аргументов он ссылается на хорошо известный факт возникновения уже в рамках
поздняков-ской культуры «текстильной» керамики, столь характерной для
позднейших дьяковско-городецких памятников Болго-Окского междуречья, Верхнего
Поволжья и даже части Прибалтики. Нельзя не согласиться со следующими его
словами: текстильный узор в качестве господствующего на керамике
«оставался на территории волго-окских и прибалтийских финно-угорских племен
в течение более тысячелетия, вплоть до первых веков н. э., являясь,
таким образом, устойчивым этнокультурным признаком».
Текстильная керамика имела распространение и ниже по Волге, до устья Камы, но здесь она исчезла уже в раннюю пору железа. Возможно, что ее кратковременное бытование к востоку от Суры объясняется наличием контактной зоны между населением приказанской и поздняковской культур, этнически все более обособлявшихся в пермскую, марийскую и мордовскую языковые общности.
Материалы исторического языкознания этому предположению особенно не противоречат, хотя и раскрывают очень сложные генетико-типологические взаимоотношения между марийским языком, с одной строны, и языками пермскими и мордовскими— с другой. Б. А. Серебренников не видит достаточных оснований к тому, чтобы объединять далеко разошедшиеся марийский и мордовские языки в одну поволжскую группу, ибо типологически и лексически мордовские языки в большей степени связаны с прибалтийско-финскими языками, чем с марийским.